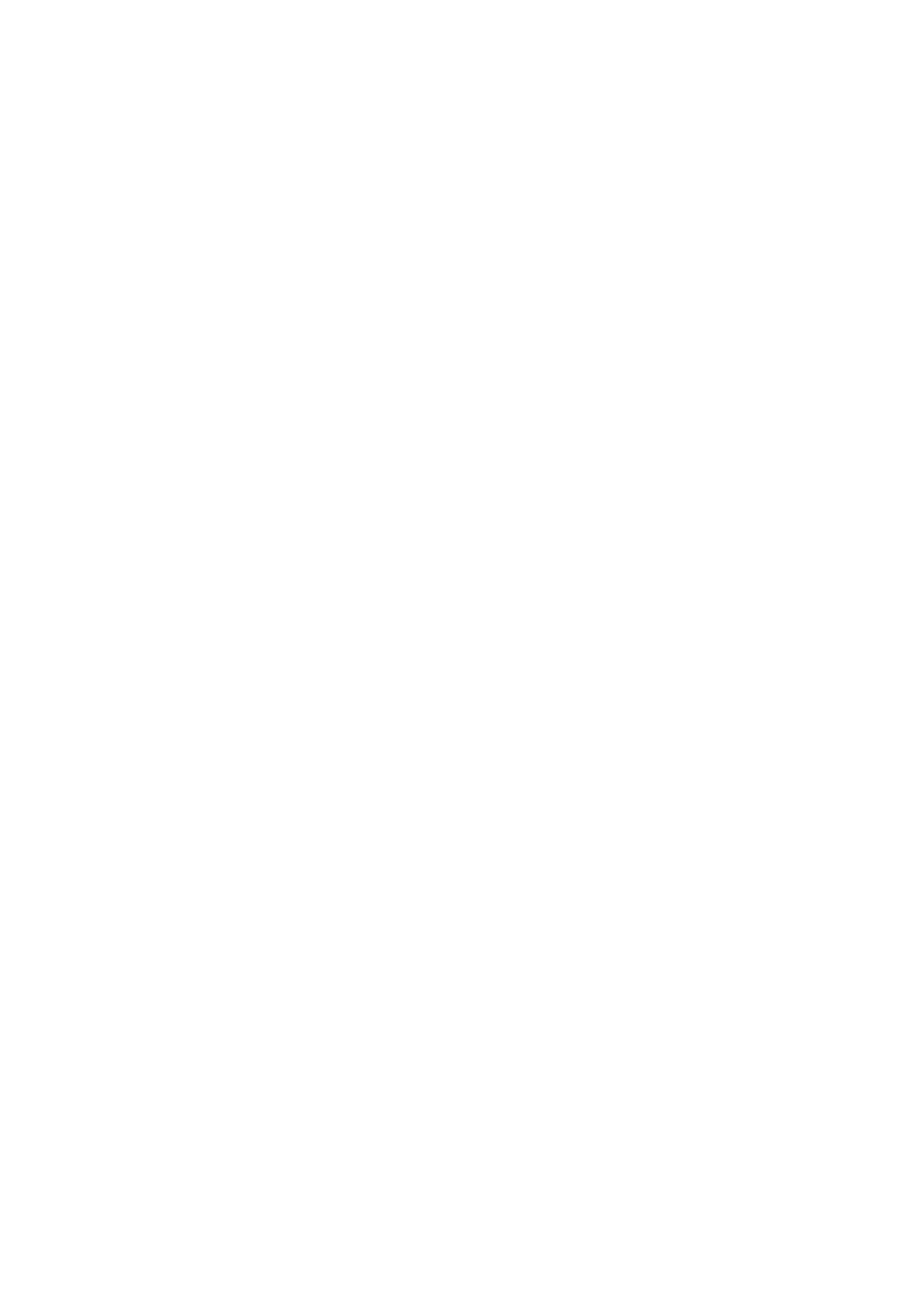Ю_ШУТОВА. Фальшивая нота
Мировое Дерево потому и мировое, что пронзает все миры: и те, что нам хорошо известны, и те, о которых только догадываемся, и те, в которые не верим. Оно пронзает и связывает их, как швейная игла сложенную в несколько слоев ткань. Связывает все пространственные и временные слои.
Там, где Мировое Дерево проходит сквозь нашу реальность, находится церковь Святой Екатерины. Мы считаем, что она стоит на Большом проспекте Васильевского острова, но Дерево знает, церковь встроена прямо в его кору. В коре, как раз на уровне подвала — еще не затянувшаяся червоточина. Ее прожгли человеческие страдания, боль и страх. Ужас перед мертвыми блокадными ночами. Нам кажется, что это было давно, но для Дерева время несущественно, и блокада все еще длится, боль звенит ледяными колокольцами — глубокая царапина в коре не зарастает.
Игорь Даль в последний раз опустил руки на клавиши органа. В восьмое воскресенье после Троицы, он будет играть прелюдию фа-минор Баха.
«К тебе, Господь, взавываю я из тьмы», — не тьма, какая там тьма, нет, Игорь слышал и играл другое — верхний голос пел божественное, вечное, спокойное — спорить с этим невозможно. Как простертые ладони Бога. Ты либо в них, либо мимо. Но голос взывал, если не из адской или тюремной тьмы, то из нутра, человечьего темного нутра, он рвался ввысь, он хотел попасть в эти божеские ладони. Он, этот уже сам по себе божественный голос пел: «Даруй мне благодать Твою», — но что это за благодать не объяснял. Он, голос, может быть, божеский, может быть, музыкальный, даровал покой, сон. Истина. Неоспоримая музыкльная истина. Великая музыка — негасимый свет, горящий во тьме.
Согласен ли органист с этой истиной? Стала ли музыка истинной для него? Игорь Даль не думал об этом. Просто играл.
Он спустился вниз, присел в пустом зале. Выходить наружу не хотелось. Конец июля накрыл улицы душной банной жарой, город оплывал свечным огарком, дрожал обманчивым маревом, слепил глаза. Лишь толстые стены церкви дарили сумрачную прохладу.
Игорь недавно вернулся в город, два месяца, как получил это место. Настоятель приглядывает за ним, недоверчиво покачивает головой: тридцать лет, совсем мальчишка, разве ему под силу такая музыка — надо играть каждый день, пусть увидит, что он настоящий мастер. Пять лет органистом во Франкфурте, и тоже, кстати, в Екатерининской церкви немалого стоит. Хорошая была работа, но он вдруг почувствовал, надо ехать домой.
Они, Дали, всегда возвращались сюда.
По семейной легенде предок их Иоганн Даль тоже был органистом. И вдруг подался в матросы. Придя сюда на английском бриге еще при матушке Елизавете, остался, пустил корни, врос в невский берег. Но связи с фатерляндом не утратил. И он, и его сыновья, и их потомки оставались по «пашпорту» поддаными сначала Пруссии, а позднее Германской империи. Вплоть до того момента, пока эта и другая великие империи не рассыпались трухой, дав начало новым государствам с прежними устремленими. Игорев прадед, преуспевающий башмачник, шивший туфельки телефонным барышням и офицерским женам, в 1914-ом году был выслан из столицы в далекую Тотьму. Он вернулся в Город в 37-ом, гражданином новой страны, с женой и двумя дочками, чтобы уже через три месяца погибнуть от копыт взбесившейся лошади.
Жена его умерла в блокаду. Умерли все жильцы большой коммуналки на Петроградке, остались только сестры, двадцатилетняя Катя и десятилетняя Геля. Однажды Катя не вернулась. Работала в похоронной команде и, видимо, легла рядом со своими скорбными заледеневшими подопечными.
Игорь Даль каждое двадцать седьмое января являлся на Пискаревское кладбище помянуть умерших в блокаду родственников, а заодно с ними и их предков, ушедших в землю задолго до... Всех, вплоть до блудного органиста Иоганна Даля.
— Геля, если я не вернусь...
Кажется, это невозможно. Как ты, Катя, можешь не вернуться, если я жду тебя, жду каждый вечер, и если ты не вернешься, я умру, а что мне еще остается... Ведь все уже умерли...
Но Геля ничего этого не сказала. Она уже привыкла. Привыкаешь ко всему: к холоду, к голоду, к смертям. Привыкаешь. Приспосабливаешься. Нельзя думать о тех, кто уже умер. Надо думать о живых. Катя жива. Я, Геля, жива. Это главное.
Катя не вернулась.
Геля прождала три дня и, взяв приготовленный на этот случай мешок с одеждой и метрикой, покинула мертвую квартиру и ушла туда, где еще теплилась жизнь, в детский дом. Их вывезли в Свердловск.
Спустя двадцать лет Ангелина Даль вернулась в Ленинград с сыном. Мальчик вырос, выучился на геолога, уехал и осел за Уралом, казалось, навсегда. Но тоже вдруг вернулся сюда, женился и стал отцом Игоря.
Так что Дали всегда возвращаются в Питер, в какие бы дали не заносила их жизнь.
Как птицы.
Игорь сидел напротив входа в подвал. И опять слышал ее, фальшивую ноту. В голове все еще звучали финальные невесомые такты прелюдии, но сквозь них проступала ужасная лишняя нота, как зубная боль, как гвоздь по стеклу, она царапала внутренний слух. Он всегда слышал здесь это внутреннее царапанье сквозь мелодию, певшую в мозгу Здесь, возле вечно запертой двери в церковный подвал.
Сегодня дверь была открыта.
«Надо спуститься. Не знаю, зачем, но надо. Может, тогда она перестанет терзать меня. Иначе сойду с ума».
Он пошарил по стене, выключателя не нашел, ткнул в фонарик на смартфоне и стал спускаться по ступеням. Коридор. Длинный и пустой. Шел, шаря белым лучом по шершавым каменным стенам. Монотонные холодные стены, монотонная холодная нота, звенящая треснувшим колокольчиком. Долго шел.
Пустой холодный коридор. Но на границе бокового зрения... Что там? Что за, господи, подскажи слово: стеллажи? Сложенные друг на друга округлые в человеческий рост, замотанные в серое — тела? Египетские мумии? Засохшие в праведности своей отцы печерской лавры? Просто покойники, сложенные штабелем... Но сто̀ит лишь повернуть голову и свет фонарика — ничего — лишь холодные, из серых каменных блоков, стены.
Пустота. Сомнения. Тоннель. Изматыващая мозг, коверкающая мелодию нота.
«Не может быть такого длинного коридора, уже и церковь должна кончиться. Куда я иду?»
Что-то увидел. Показалось — тряпичная куча у стены. Нет. Человек. Лицо едва виднеется из-под низко намотанного серого платка. Девичье лицо. Белое. Мертвое. Девушка в ватнике, стеганных, наверно, тоже ватных штанах, валенках с галошами.
— Эй, — потряс ее за плечо, — ты живая там? — говорил тихо, почти шепотом, словно боялся спугнуть.
Что боялся спугнуть? Жизнь? Как бабочку?
Начал бездумно разматывать толстый платок. Сунул руку к шее. Шея холодная, как мрамор. Кладбищенский мрамор. Но под чуткими пальцами музыканта едва-едва билась жилка. Живая. «Надо на солнце, согреть». Расстегнул ватник, нащупал что-то прямоугольное, картонное в кармане, вытащил. Маленькая серая книжица с черным гербом СССР — паспорт. Посветив, прочитал: «Даль Екатерина Ивановна. Год рождения 1922. Место рождения — город Тотьма».
Подхватив девушку на руки, понес ее к выходу — наружу, к свету.
Он еще ничего не понял, но осознал, что больше не слышит ту фальшивую ноту, мелодия в голове звучала стройно и торжественно: «Даруй мне благодать Твою, не дай пасть духом... Чтобы я жил...»
Мы будем жить.
Червоточина в коре Мирового дерева затянулась.
Мировое Дерево потому и мировое, что пронзает все миры: и те, что нам хорошо известны, и те, о которых только догадываемся, и те, в которые не верим. Оно пронзает и связывает их, как швейная игла сложенную в несколько слоев ткань. Связывает все пространственные и временные слои.
Там, где Мировое Дерево проходит сквозь нашу реальность, находится церковь Святой Екатерины. Мы считаем, что она стоит на Большом проспекте Васильевского острова, но Дерево знает, церковь встроена прямо в его кору. В коре, как раз на уровне подвала — еще не затянувшаяся червоточина. Ее прожгли человеческие страдания, боль и страх. Ужас перед мертвыми блокадными ночами. Нам кажется, что это было давно, но для Дерева время несущественно, и блокада все еще длится, боль звенит ледяными колокольцами — глубокая царапина в коре не зарастает.
Игорь Даль в последний раз опустил руки на клавиши органа. В восьмое воскресенье после Троицы, он будет играть прелюдию фа-минор Баха.
«К тебе, Господь, взавываю я из тьмы», — не тьма, какая там тьма, нет, Игорь слышал и играл другое — верхний голос пел божественное, вечное, спокойное — спорить с этим невозможно. Как простертые ладони Бога. Ты либо в них, либо мимо. Но голос взывал, если не из адской или тюремной тьмы, то из нутра, человечьего темного нутра, он рвался ввысь, он хотел попасть в эти божеские ладони. Он, этот уже сам по себе божественный голос пел: «Даруй мне благодать Твою», — но что это за благодать не объяснял. Он, голос, может быть, божеский, может быть, музыкальный, даровал покой, сон. Истина. Неоспоримая музыкльная истина. Великая музыка — негасимый свет, горящий во тьме.
Согласен ли органист с этой истиной? Стала ли музыка истинной для него? Игорь Даль не думал об этом. Просто играл.
Он спустился вниз, присел в пустом зале. Выходить наружу не хотелось. Конец июля накрыл улицы душной банной жарой, город оплывал свечным огарком, дрожал обманчивым маревом, слепил глаза. Лишь толстые стены церкви дарили сумрачную прохладу.
Игорь недавно вернулся в город, два месяца, как получил это место. Настоятель приглядывает за ним, недоверчиво покачивает головой: тридцать лет, совсем мальчишка, разве ему под силу такая музыка — надо играть каждый день, пусть увидит, что он настоящий мастер. Пять лет органистом во Франкфурте, и тоже, кстати, в Екатерининской церкви немалого стоит. Хорошая была работа, но он вдруг почувствовал, надо ехать домой.
Они, Дали, всегда возвращались сюда.
По семейной легенде предок их Иоганн Даль тоже был органистом. И вдруг подался в матросы. Придя сюда на английском бриге еще при матушке Елизавете, остался, пустил корни, врос в невский берег. Но связи с фатерляндом не утратил. И он, и его сыновья, и их потомки оставались по «пашпорту» поддаными сначала Пруссии, а позднее Германской империи. Вплоть до того момента, пока эта и другая великие империи не рассыпались трухой, дав начало новым государствам с прежними устремленими. Игорев прадед, преуспевающий башмачник, шивший туфельки телефонным барышням и офицерским женам, в 1914-ом году был выслан из столицы в далекую Тотьму. Он вернулся в Город в 37-ом, гражданином новой страны, с женой и двумя дочками, чтобы уже через три месяца погибнуть от копыт взбесившейся лошади.
Жена его умерла в блокаду. Умерли все жильцы большой коммуналки на Петроградке, остались только сестры, двадцатилетняя Катя и десятилетняя Геля. Однажды Катя не вернулась. Работала в похоронной команде и, видимо, легла рядом со своими скорбными заледеневшими подопечными.
Игорь Даль каждое двадцать седьмое января являлся на Пискаревское кладбище помянуть умерших в блокаду родственников, а заодно с ними и их предков, ушедших в землю задолго до... Всех, вплоть до блудного органиста Иоганна Даля.
— Геля, если я не вернусь...
Кажется, это невозможно. Как ты, Катя, можешь не вернуться, если я жду тебя, жду каждый вечер, и если ты не вернешься, я умру, а что мне еще остается... Ведь все уже умерли...
Но Геля ничего этого не сказала. Она уже привыкла. Привыкаешь ко всему: к холоду, к голоду, к смертям. Привыкаешь. Приспосабливаешься. Нельзя думать о тех, кто уже умер. Надо думать о живых. Катя жива. Я, Геля, жива. Это главное.
Катя не вернулась.
Геля прождала три дня и, взяв приготовленный на этот случай мешок с одеждой и метрикой, покинула мертвую квартиру и ушла туда, где еще теплилась жизнь, в детский дом. Их вывезли в Свердловск.
Спустя двадцать лет Ангелина Даль вернулась в Ленинград с сыном. Мальчик вырос, выучился на геолога, уехал и осел за Уралом, казалось, навсегда. Но тоже вдруг вернулся сюда, женился и стал отцом Игоря.
Так что Дали всегда возвращаются в Питер, в какие бы дали не заносила их жизнь.
Как птицы.
Игорь сидел напротив входа в подвал. И опять слышал ее, фальшивую ноту. В голове все еще звучали финальные невесомые такты прелюдии, но сквозь них проступала ужасная лишняя нота, как зубная боль, как гвоздь по стеклу, она царапала внутренний слух. Он всегда слышал здесь это внутреннее царапанье сквозь мелодию, певшую в мозгу Здесь, возле вечно запертой двери в церковный подвал.
Сегодня дверь была открыта.
«Надо спуститься. Не знаю, зачем, но надо. Может, тогда она перестанет терзать меня. Иначе сойду с ума».
Он пошарил по стене, выключателя не нашел, ткнул в фонарик на смартфоне и стал спускаться по ступеням. Коридор. Длинный и пустой. Шел, шаря белым лучом по шершавым каменным стенам. Монотонные холодные стены, монотонная холодная нота, звенящая треснувшим колокольчиком. Долго шел.
Пустой холодный коридор. Но на границе бокового зрения... Что там? Что за, господи, подскажи слово: стеллажи? Сложенные друг на друга округлые в человеческий рост, замотанные в серое — тела? Египетские мумии? Засохшие в праведности своей отцы печерской лавры? Просто покойники, сложенные штабелем... Но сто̀ит лишь повернуть голову и свет фонарика — ничего — лишь холодные, из серых каменных блоков, стены.
Пустота. Сомнения. Тоннель. Изматыващая мозг, коверкающая мелодию нота.
«Не может быть такого длинного коридора, уже и церковь должна кончиться. Куда я иду?»
Что-то увидел. Показалось — тряпичная куча у стены. Нет. Человек. Лицо едва виднеется из-под низко намотанного серого платка. Девичье лицо. Белое. Мертвое. Девушка в ватнике, стеганных, наверно, тоже ватных штанах, валенках с галошами.
— Эй, — потряс ее за плечо, — ты живая там? — говорил тихо, почти шепотом, словно боялся спугнуть.
Что боялся спугнуть? Жизнь? Как бабочку?
Начал бездумно разматывать толстый платок. Сунул руку к шее. Шея холодная, как мрамор. Кладбищенский мрамор. Но под чуткими пальцами музыканта едва-едва билась жилка. Живая. «Надо на солнце, согреть». Расстегнул ватник, нащупал что-то прямоугольное, картонное в кармане, вытащил. Маленькая серая книжица с черным гербом СССР — паспорт. Посветив, прочитал: «Даль Екатерина Ивановна. Год рождения 1922. Место рождения — город Тотьма».
Подхватив девушку на руки, понес ее к выходу — наружу, к свету.
Он еще ничего не понял, но осознал, что больше не слышит ту фальшивую ноту, мелодия в голове звучала стройно и торжественно: «Даруй мне благодать Твою, не дай пасть духом... Чтобы я жил...»
Мы будем жить.
Червоточина в коре Мирового дерева затянулась.